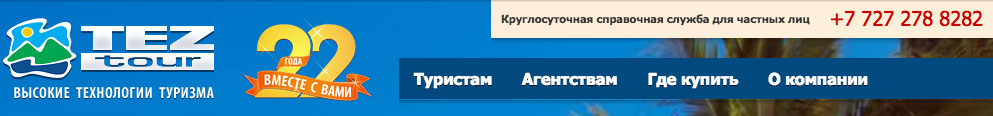По следам ШЕСТНАДЦАТОГО
Валерий Анатольевич Кораблев – профессор университета «Туран», академик Международной общественной академии туризма, академик Московской международной академии детско-юношеского туризма и краеведения, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, мастер спорта СССР по туризму, неоднократный чемпион СССР и Казахстана по спортивному туризму, заслуженный инструктор туризма РК, почетный работник туризма РК, заслуженный путешественник России, автор 140 научных работ по туризму.
В 1975 году в казахстанском журнале «Простор» был опубликован очерк бывшего офицера-панфиловца Саурбека Бакбергенова «Шестнадцатый, кто ты?». В нем рассказывалось о подвиге 16 гвардейцев-панфиловцев, совершенном 19 февраля 1942 года на Северо-Западном фронте. Продвижению подразделений 1073-го гвардейского стрелкового полка на город Холм Новгородской области мешало сильно укрепленное фашистами село Сутоки. С ходу взять его не удалось. Трое суток безуспешно пытались захватить панфиловцы этот населенный пункт. Ночью группа бойцов под командованием младшего лейтенанта Д. Волгапкина, прячась в глубоких сугробах, подползла к одинокому сараю на окраине села и, внезапно атаковав, захватила его. Опомнившись, гитлеровцы бросились в наступление. Панфиловцы приняли неравный бой. Окруженные с трех сторон превосходящими силами противника, они в течение многих часов отбивали яростные атаки врага, удерживая этот крошечный плацдарм до решающего броска основных сил панфиловцев.
Обозленные небывалым упорством горстки советских солдат, фашисты перенесли сюда и минометный огонь. Две мины, пробив крышу, подожгли сарай. Когда от огня загорелась одежда, и совсем нечем стало дышать, в свой последний бой бросились девять оставшихся в живых бойцов под руководством политрука Рашида Джангужина. В горящих гимнастерках, с автоматами и винтовками в руках красноармейцы сошлись в смертельной схватке с врагом, но силы были неравны...
На следующий день подразделения 1073-го гвардейского стрелкового полка захватили село Сутоки. Мало кому из фашистов удалось остаться в живых.
Героев-панфиловцев с воинскими почестями похоронили в братской могиле у дороги, соединяющей село Сутоки с городом Холм.
Рассказав об этом подвиге, Саурбек Бакбергенов просил читателей журнала, знающих что-либо о погибших здесь воинах, сообщить хотя бы маленький факт из жизни любого из них. Это помогло бы ему продолжить поиски и восстановить более подробно картину подвига. Причем самым главным он считал уточнение фамилий и имен 16 героев. Не случайно его очерк так и назван «Шестнадцатый, кто ты?».
Думается, что ответ на вопрос: «Шестнадцатый, кто ты?» – найден членами поисковой экспедиции «Летопись Великой Отечественной», проводимой ежегодно Алма-Атинским городским клубом туристов в 70-80-х годах.
Каждый год по местам боев казахстанских стрелковых дивизий – 8-й гвардейской Режицкой ордена Ленина, ордена Суворова дивизии имени Героя Советского Союза генерал-майора И.В. Панфилова и 391-й Режицкой Краснознаменной стрелковой дивизии, сформированных в столице Казахстана в 1941 году, – отправляется очередная поисковая экспедиция. Ее цель – поиск неизвестных страниц из боевой летописи наших земляков – воинов-алмаатинцев. За 10 лет ее членами были собраны бесценные боевые реликвии, Красное знамя Брестской крепости, фотографии фронтовых лет, произведены захоронения останков воинов и моряков-казахстанцев, найденных под городом Холм во время походов, ycтановлены имена 156 считавшихся ранее без вести пропавшими солдат. Записаны многочисленные воспоминания ветеранов. Оказана помощь в создании двух музеев боевой славы в городе Алма-Ате.
Как проходили такие экспедиции, нам и хотелось рассказать, используя страницы походных дневников.
До отъезда нашей экспедиции по местам боев казахстанских дивизий, сформированных в Алма-Ате в 1941 году, оставалось три дня, как всегда наполненных предпоходной суетой. Мы собирались в Новгородскую область, в места, которые в сводках Совинформбюро в годы Великой Отечественной войны носили обобщенное название «южнее озера Ильмень». А если говорить точнее, то нам предстояло проехать на велосипедах по району самых кровопролитных боев воинов-казахстанцев на Северо-Западном фронте – по маршруту Бологое-Валдай-Демянск-Старая Русса-Холм-Псков-Новгород.
Тот, кто жил «щемящим чувством дороги», знакомым, наверное, не только туристам, знает, как много приходится делать в предотпускные дни на работе, чтобы потом отправиться в путь со спокойной душой.
23 августа
Из-под колес наших велосипедов вылетают целые фонтаны воды. Все в грязи и промокли до нитки, но настроение бодрое. Впереди Демянск. От Валдая до него 87 км, как говорится, дорога не дальняя, но в годы войны, как писал военный корреспондент газеты «Красная звезда» Ю.М. Корольков, этот путь наши солдаты шли почти 30 месяцев. Эти километры, щедро политые потом и свинцовым огнем, солдаты ползли болотами, цеплялись за высотки, стояли в обороне и наступали снова, пробиваясь местами, которые в военных сводках носили общее и несколько лирическое – «южнее озера Ильмень».
Немеркнущей страницей осталось первое в истории Великой Отечественной войны окружение крупных сил немецко-фашистских захватчиков (70-тысячной демянской группировки противника) в результате наступательных операций в январе-феврале 1942 года войск Северо-Западного фронта, в которых приняли участие и воины-казахстанцы.
Противник разгадал замысел Ставки по уничтожению окруженной группировки. Гитлеровцы пробили брешь в нашей обороне в районе села Рамушево и через образовавшийся так называемый Рамушевский коридор подтянули свежие силы и подкрепление.
Войска Северо-Западного фронта вели ожесточенные бои. Враг оказывал упорнейшее сопротивление. Демянский плацдарм из-за его особой стратегической важности (он находился на стыке Московского и Ленинградского направлений) гитлеровцы называли «пистолетом, приставленным к сердцу России».
Дорого обошлось врагу сопротивление. Более 70 тысяч солдат и офицеров погибли в демянском котле. Из эсэсовской дивизии «Мертвая голова» в 20 тысяч человек уцелело лишь 170. Об этом напишет Гитлер в своем письме Муссолини, требуя от него дополнительных резервов. Генерал Бек-Беренц, бывший начальник штаба 16-й немецкой армии, воевавший здесь, назвал демянский плацдарм «маленьким Верденом».
Поселок Демянск часто упоминался в сводках Совинформбюро. Здесь при отходе наших войск стоял штаб Северо-Западного фронта. С 8 сентября 1941 года до 21 февраля 1943 года поселок находился в оккупации.
«Демянск был взят после трехчасового боя, – писала газета «За Родину». – Когда батальон старшего лейтенанта Мягкова ворвался на юго-восточную окраину, поселок горел... Из некоторых домов продолжали вести огонь пулеметчики, но бойцы забрасывали их гранатами. Отступая, гитлеровцы все еще пытались поджигать оставшиеся дома. Несколько факельщиков было захвачено на месте преступления...».
После взятия нашими войсками Демянска страшная картина разрушений предстала перед глазами солдат. Целехонькими остались лишь четыре дома, все остальное лежало в руинах, в том числе льнозавод, древний монастырь.
На Поповом болоте, где гитлеровцы устроили концлагерь, после освобождения города нашими поисками в полузасыпанных ямах было обнаружено более 100 тысяч человек – замученных советских военнопленных. Вот краткая выписка из документов Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков: «Военнопленных держали под открытым небом. Питание состояло из 50-100 граммов суррогатного хлеба и зловонной жидкости, которую наливали в большое корыто, сколоченное из досок». Их дополняют новые свидетельства, собранные местными следопытами.
Мы побывали на месте бывшего концлагеря. Болото затянулось кустарником, поросло зеленой травой. О прошлом напоминают обрывки колючей проволоки, чуть заметные ямы.
У Попова болота сейчас разбит парк. 9 мая 1975 года в нем был торжественно открыт монумент Славы в виде громадного кольца из серого гранита в честь воинов Северо-Западного фронта. На мраморной плите высечены слова: «Пятьсот дней здесь лилась кровь за землю русскую воинов Северо-Западного фронта. Склоните головы перед их священной памятью».
Рядом плита, установленная в честь погибших узников лагеря смерти. Лишь 10 фамилий выбито на плите. Имена других остались неизвестными...
25 августа
Полдня ушло на то, чтобы на велосипедах добраться до Старой Руссы. На половине пути, на участке Залучье – Рамушево, где дорожники расширяли полотно дороги, мы собрали первые экспонаты для музея.
Дорога временно закрыта. К обочине прижалось несколько лесовозов, КрАЗов и наши велосипеды. Водители столпились у ярко красного бульдозера, расширявшего полотно дороги. Разгоняясь, он пласт за пластом вскрывал желто-красную землю.
Словоохотливый лесник объяснял любопытным, что именно здесь у дороги в годы войны были блиндажи немцев. Из-под ножа бульдозера виднелись кости, противогазы, подошвы немецких сапог, гильзы от снарядов.
В одном из блиндажей мы нашли хорошо сохранившиеся пакетики, на которых нарисована большая красная блоха. Эти пакеты предназначались для борьбы с блохами каждому немецкому солдату. Там же нашли коричневые пластмассовые коробочки с белым порошком неприятного запаха.
Подошел лесник, заинтересовавшийся нашими находками. Разговорились.
- Чего только здесь не лежало после войны! Целые арсеналы оружия! Аккуратные были немцы. Вы посмотрите на подошвы сапог – долго в них собирались они ходить по нашей земле, да не пришлось...
Оборона Рамушево - Старая Русса - Холм была особенно сильной. Немцы около двух лет строили и укрепляли свои рубежи, сделав их почти неприступными. Глубина обороны противника была солидной: за первой траншеей в 100-200 м шла линия блиндажей, дзотов, дотов, связанных ходами сообщений.
Едем по шоссе Старая Русса-Холм, вдоль которого зимой 1942 года проходила линия фронта. Перед селом Поддорье справа от дороги – скромный обелиск. Надпись на нем гласит, что именно здесь партизанский обоз с продовольствием для защитников осажденного Ленинграда перешел линию фронта. Делегация из 12 партизан и 10 колхозников сопровождала обоз. Возглавлял ее командир 13-й партизанской бригады А.Г. Поруценко. Мы встретились с ним случайно в городе Остров, где он живет. Многое рассказал нам бывший партизанский командир и на прощание, написав несколько приветственных слов в нашем походном дневнике, попросил разыскать своего заместителя И.Л. Ступакова из Усть-Каменогорска. Может быть, откликнется он? Адрес Поруценко у нас есть.
...15 марта 1942 года обоз, пройдя путь от Серболовского леса – центра партизанского края – до деревни Жемчугово, укрывался партизанами до вечера в лесу. Были приняты все меры предосторожности. Копыта лошадей обернули тряпьем, а морды замотали мешковиной.
Накануне в деревне Лопари обоз встретился с разведчиками 8-й гвардейской Панфиловской дивизии, через которых были оговорены детали перехода линии фронта.
Ночью при свете ракет два партизанских отряда, напав на местный фашистский батальон, потеснили его и в образовавшийся полуторакилометровый коридор через шоссе Старая Русса-Холм направили партизанский обоз.
Со стороны Холма к месту прорыва спешило немецкое подкрепление на автомашинах. Но партизаны при поддержке артиллерии и воинов 8-й гвардейской Панфиловской дивизии успешно отбили все контратаки и скрылись.
При переходе обоза лишь несколько человек из группы охраны получили ранения.
27 августа
Город Холм лишь небольшим кружочком отмечен на карте и находится в 200 км южнее Новгорода. Он расположен на высоких красивых берегах реки Ловати при слиянии ее с Куньей. Вокруг – леса и болота.
...В годы Великой Отечественной войны городу Холм придавалось важное значение. Немецкое командование даже учредило медаль «За взятие Холма». Со 2 августа 1941 года по 21 февраля 1942 года город находился в руках врага. На высоких берегах Ловати строились дзоты, доты, ходы сообщения, устанавливались проволочные ограждения. Фашисты не скрывали намерений создать здесь мощную оборонительную крепость.
Штурм Холма Красной Армией начался с середины февраля 1942 года и продолжался несколько месяцев. В боях за город отличилась 391-я стрелковая дивизия, сформированная в Алма-Ате. Несмотря на сильные морозы, глубокий снег, без поддержки артиллерии и минометов, увязших в сугробах, она далеко продвинулась вперед и с большими потерями отбила город.
При взятии Холма смертью храбрых пал старший политрук И.Н. Первушин, который до войны был заведующим отделом пропаганды и агитации Фрунзенского райкома партии города Алма-Аты.
...Мы стоим у памятника, где захоронены 46 гвардейцев-панфиловцев, из них 13 человек – участники боя под деревней Сутоки под руководством политрука Рашида Джангужина. Молча еще раз всматриваемся в список погибших. Из очерка С. Бакбергенова мы знаем, что в живых из 16 гвардейцев осталось трое, в том числе младший лейтенант Д. Волгапкин. Но кто те двое, кто спасал его?
Забегая вперед, в ходе последующих поисков мы нашли Д. Волгапкина в Подмосковье и еще одного панфиловца Сихимбая Мамырова, чья фамилия была выбита на памятнике. После чего в одной из центральных газет появилась его фото у памятника с табличкой «Я жив», но об этом мы расскажем чуть позже.
Недалеко стоит еще один памятник – морякам 75-й морской стрелковой бригады, которые в Пронинской роще, вблизи города Холм, стояли насмерть в феврале 1942 года. Среди них было много казахстанцев – моряков Каспийской флотилии. На сером граните памятника высечена выписка из приказа командования, одна лаконичная строчка, которая говорит о многом: «Наградить орденами и медалями всех без исключения...». Этот памятник появился недавно. И в том, что он есть, - заслуга нашей велоэкспедиции 1975 года. Тогда ее участники приняли активное участие в перенесении останков и захоронении моряков в братской могиле. А затем вместе с ветеранами бригады добились увековечения памяти героев.
Но все равно в душе покоя нет. И вот почему. Стоит зайти за памятник в Пронинскую рощу, война, как и прежде, напоминает о себе буквально на каждом шагу: в многочисленных воронках, теперь уже оплывших, наполовину заполненных водой, по-прежнему видны обрывки бушлатов, остатки ботинок, валенок, тут же лежат кружки, котелки, разбитые телефонные трубки, проржавевшие ящики из-под мин, кости. После нас здесь никто не ходил. А ведь если хорошо поискать, то можно найти в этих воронках медальоны, которые выдавались каждому пехотинцу. А это значит вернуть из небытия тех, кто по-прежнему числится пропавшим без вести, вернуть не только надежду их родственникам, до сих пор ждущим какой-нибудь весточки от поисковиков, но и честное имя погибшего здесь.
Молча стоим в Пронинской роще. Перед глазами словно оживают героические страницы фронтовых будней моряков-гвардейцев в начале 1942 года, описанные комбатом Я. Бондаренко: «В течение трех часов продолжалась бомбежка, в которой участвовало более ста самолетов. Одновременно плотно обстреливали из орудий и минометов, применив новое оружие – минометы 230-миллиметрового калибра. Фашистам казалось, что после этого огненного смерча все живое уничтожено».
Продолжением этих строк стали воспоминания генерала Лизюкова А.П.: «Но когда немцы без выстрела прошли место, где находился Пронинский лес, черное мертвое поле ожило. Из воронок от бомб и снарядов, как по команде, внезапно выросли силуэты гвардейцев. Со всех сторон вспыхнули огоньки пулеметов и противотанковых ружей. Перед врагом появилась непроходимая огневая завеса. Из-за пней полетели связки ручных гранат. Ошеломленные фашисты на мгновение остановились. Их колонны быстро редели. Минута замешательства окончательно погубила врага...».
28 августа
Деревня Подмолодье. Около нее братская могила. Более ста воинов из 391-й стрелковой дивизии лежат здесь.
Больше всех волнуется мой друг Анатолий Резников. На белой мраморной плите выбита фамилия его отца, К.В. Резникова, погибшего смертью храбрых 19 февраля 1942 года. Более 35 лет не знал наш руководитель экспедиции, где находится могила его отца. И вот в результате поисков в 1975 году на чердаке местной школы удалось найти документы военного госпиталя и среди них сведения о солдатах, захороненных в братской могиле у деревни Подмолодье. Так из списка без вести пропавших удалось вырвать еще 143 человека и сообщить об этом их родственникам.
Возлагаем алма-атинскую землю на братскую могилу и оставляем капсулу со словами благодарности от семьи Резниковых.
Беседуем с местной жительницей Л. Н. Смирновой. Она помогла нам установить еще две фамилии погибших, которых нет на памятнике, – Пеньков и Веремьяненко – двух тяжело раненных офицеров, живших в ее доме и скончавшихся от ран.
В тот же день на чердаке одного из заброшенных домов находим хорошо сохранившуюся красноармейскую шинель. Вот это находка для нашего музея! Как будет рада Валентина Ивановна Панфилова, которая просила найти для музея панфиловцев этот раритет.
29 августа
Сегодня мы продолжаем поиск боевых реликвий.
Нас сопровождает директор местного леспромхоза Василий Васильевич Карпов, находящийся в отпуске, – страстный краевед, большой любитель истории своего родного края. Не первый год он помогает нам.
За послевоенные годы поляны, по которым проходила линия обороны, затянулись молодым березняком и осиной. Тихо в лесу. Кругом бесконечные окопы, ходы сообщений, обвалившиеся блиндажи. Сотни метров колючей проволоки. Война о себе напоминает на каждом шагу: многочисленные кости, пробитые каски, металлические коробки из-под мин, стреляные гильзы, противогазы, солдатские кружки, котелки, остатки оружия, между которыми выглядывают грибы, которых здесь великое множество.
Наш путь лежит к Максимовне – местной холмской Хатыни. Здесь немцы в 1942 году расстреляли 67 мирных жителей.
Тихо рассказывает В.В. Карпов:
– Среди погибших и мой дед. А мне посчастливилось за 4 часа от расправы уйти из деревни. Вот здесь когда-то стоял дом, где я родился...
Немцы, окружив деревню, сожгли ее дотла. Спастись удалось Ване Михайличенко и одной пожилой женщине, укрывшимся в щели, выкопанной в огороде. Они-то и рассказали о страшной трагедии.
На пепелище мы нашли огромную россыпь немецких патронов от крупнокалиберного пулемета, несколько гильз из-под снарядов, а в стороне от деревни – диск с одним патроном от ручного пулемета Дегтярева и стабилизатор от снаряда «катюши».
Идет дождь, но нам не до него. Мы стоим молча, потрясенные трагедией этой маленькой деревушки.
Позже мы побывали в деревне Сопки, расположенной неподалеку от Максимовки, возложили цветы к памятнику, надпись на котором гласит: «Здесь похоронены 137 мирных жителей деревень Максимовка, Кобляки, Знаменское, Бабино и Скоруево, расстрелянных в 1942 году немецко-фашистскими извергами. Остановитесь, люди! Склоните головы!».
Неподалеку, у бывшей деревни Гущино, где проходил рубеж обороны, в болоте мы нашли хорошо сохранившиеся траншеи, блиндажи, ходы сообщений. В одном из окопов видны останки воинов. Рядом – две неразорвавшиеся гранаты и их взрыватели, противогазы, сломанная саперная лопатка, подошва солдатского ботинка, пробитые каски. С помощью металлических шипов и перочинных ножей осторожно вскрываем пласт земли, под ним – россыпь патронов.
Раскопки осторожно ведем дальше. Найдены перочинный нож, кошелек, в нем монеты, обрывки ремня, расческа. И вот удача: Василий Николаевич Яковенко - старейший участник нашего похода, ветеран войны, находит солдатский медальон. Если в нем сохранилась записка, то по ней можно отыскать родственников погибшего. Мы не торопимся его вскрывать. Давно уже идет дождь, на нас нет сухого места, но мы этого не замечаем. Переносим останки воинов в одно место и делаем скромный могильный холмик безымянным героям. В гильзе оставляем нашу записку. Сверху кладем каски и саперную лопатку. Отмечаем это место на карте.
30 августа
Вскрыли медальон, но, к нашему сожалению, мокрый листок с предполагаемыми нами данными о солдате оказался незаполненным. А мы надеялись, что еще одним пропавшим без вести станет меньше...
Вместе с Василием Васильевичем Карповым ведем поиск. Там, где когда-то стояла д. Куземкино, неподалеку от батареи увидели громадную 500-килограммовую немецкую авиабомбу, правда уже разряженную, чуть дальше, вокруг позиции артиллеристов, стреляные гильзы. Рядом стоит насквозь прострелянная «полуторка». Через заднее окно ее кабины выросла высокая белоствольная береза. Здесь же найден штык и ножны от кортика, кружка. Словно коричневые опята рядом с рамой машины затаилиcь бронебойные головки снарядов. Не трогать! Здесь притаилась смерть!
…Скрежет лопаты. Все в лесу замолкают, и лишь как часовой механизм стучит сердце: «Мина? Граната?». Осторожно извлекаем из земли ствол винтовки. Наша. Приклад ее сгнил. Ничего, сгодится и такая для нашего музея.
Забегая вперед, скажу, что в последующих экспедициях в этом лесу на немецких позициях мы отыскали несколько крупнокалиберных пулеметов, изготовленных до войны во Франции, один из которых после смазки вполне мог стрелять.
После похода к батарее артиллеристов на следующий день мы совершили разведочный переход по лесу к бывшим деревням Скоруево и Дуброво. Линии траншей, наших и чужих, кажутся бесконечными. Огромные мотки колючей проволоки: круглой -нашей и кованой, квадратной – немецкой. Часто пользуемся полуметровыми щупами. Удачливее всех оказался Василий Васильевич. На полянке, густо поросшей папоротником, его штырь уперся во что-то металлическое. Начали копать и увидели ящик, полный пулеметных лент – немецких в смазке. Неподалеку щуп опять наткнулся на металлический ящик. Раскопав землю, мы увидели на крышке орла со свастикой. Подумали: вот это находка! Вдруг ящик с какими-то штабными документами. Но каково было наше разочарование, когда вместо бумаг он оказался набитым прогнившими банками из-под консервов.
Повезло нам в последний день. Это становится традицией для любой из наших экспедиций. Видимо, не случайно у французов появилась поговорка: «Удача ожидает того, кто лучше к ней подготовился». Так и у нас. Мы уже сворачивали свой лагерь на берегу реки Ловать неподалеку от бывшей деревни Скоруево и решили попытать счастья буквально в нескольких метрах от автодороги Холм – Локня.
Металлический щуп медленно входит в грунт и сразу же натыкается на какую-то невидимую преграду. Стоп! В ход идет саперная лопатка. Осторожно, сантиметр за сантиметром, снимаем пласты размокшей земли. Сейчас все внимание сосредоточено на яме, внизу которой темнеет кусок ржавого металла. Очищаем его от земли. Теперь хорошо виден стабилизатор разорвавшейся мины.
Продолжаем ощупывать грунт. Опять натыкаемся на металл. Из земли извлекаем помятую фляжку, затем достаем щит и колесо от пушки, гильзы от снарядов. Вот это да! Периметр ямы все увеличивается. Снова остановка. На этот раз надолго: на дне чернеют гильзы неразорвавшихся снарядов. Один, два, три, четыре... Это только те, что видны сверху. А сколько их прячется в земле? Подобными находками нас не удивишь – за годы экспедиций мы насмотрелись всякого, но все равно становится не по себе от таких трофеев.
За три дня мы досконально исследовали этот район па правом берегу реки Ловать. А затем вновь двинулись в путь на Лохню и Пушкинские горы, боевым путем наших земляков-казахстанцев. Перед отъездом мы упаковываем собранные боевые реликвии, заносим в путевой дневник последние данные, обработкой которых займемся сразу же после похода. Наш девиз – поиск. Поиск по-прежнему продолжается.