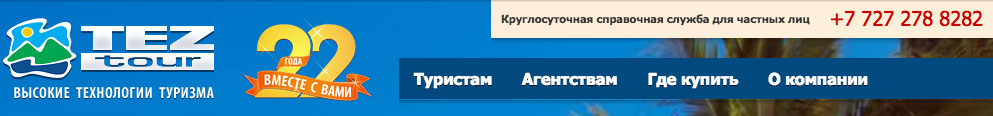ДВА ТАЛГАРЦА
В одном из красивейших мест Казахстана в окружении величественных пиков Заилийского Алатау расположился недалеко от Алматы небольшой, но имеющий древнюю историю город Талгар.
Первое упоминание о нем относится еще к 982 году. В географическом трактате неизвестного автора «Худуд ал-Алем» («Границы мира») он описан под именем Талхиз (Талхир). Существует также древнетюркская трактовка этого слова – Донкар, что переводится как «высокая ледяная гора». В VIII-IX вв. Талгар становится одним из крупнейших городов Илийской долины. В нём были развиты кузнечное, металлообрабатывающее, гончарное, стекольное, косторезное ремёсла, строительное дело. Дома имели по 4-6 жилых комнат (а иногда и больше) и двор. В комнатах находились тандыры для обогрева и приготовления пищи, в том числе лепёшек. В большинстве домов были зернохранилища. Сами жители Талхира занимались скотоводством и земледелием, причем последнее преобладало, что очень характерно для этих мест с необычайно плодородной землей. Особенно было развито выращивание пшеницы и садоводство. Выгодное расположение на Великом шелковом пути способствовало развитию торговли, о чём свидетельствуют археологические находки – например, датированные V-VII вв. фарфоровые изделия из Японии, расписанные золотом, с изображением фигур бородатых людей.
Такая богатая история, без сомнения, развивает историческое самосознание тех жителей, кто не утратил способность думать и чувствовать. Два героя сегодняшнего очерка – как раз из таких талгарцев. Это знаменитый казахстанский художник, мастер мира Амандос Аканаев и известный бизнесмен, общественный деятель и меценат Даурен Муса. О необычном переплетении этих двух судеб рассказывает старший из них – Амандос Атибекович Аканаев.
Кочевник
Самые ранние мои детские впечатления связаны с дорогой. В силу обстоятельств советского времени родители были чабанами. Отец в колхозе брал отару овец, и зимний период мы проводили в поселке Кербулак Алматинской области за Капшагаем. А весной нужно было перегонять отару в Тургеньское ущелье на джайляу. У нас было два верблюда, три коня и 1200 голов баранов. Дети, кто постарше, сидели на лошадях и верблюдах, пристроившись к родителям. А самых маленьких перевозили в люльках, которые привязывали к верблюдам. Во мне до сих пор живет ощущение, что вот верблюд ложится во время передышки, а вот (после того, как все отдохнули) – встает. И опять в путь. В день проходили километров 10-12. И это ощущение дороги во мне сохранилось, им я и прожил всю свою жизнь.
Целое лето мы проводили на джайляу, а осенью начинался обратный перегон. И эти картины – джайляу, окружающие пейзажи, реки, озера – тоже навсегда запечатлелись в моей памяти.
Моя мать была потомственной народной мастерицей, как и ее отец. В их роду это передавалось из поколения в поколение. Мама была большой умелицей: у нее были инструменты, оставшиеся от родителей, и она делала кольца, браслеты, серьги из серебра. Поэтому и у меня, наверное, выбор был во многом предопределен. Сколько себя помню, я все время рисовал. Лет с четырех-пяти. Возможностей тогда особых не было, использовалась самая дешевая бумага, иногда школьная: в клеточку, в линейку, иногда оберточная, в которую заворачивали в магазинах продукты.
В пяти минутах езды от нас находился город Талгар. Мы все время пропадали то в Талгаре, то в Алматы. Талгар был нам ближе, мы туда ездили на рынок, а впоследствии я часто участвовал в проводившихся там различных художественных смотрах и выставках.
Когда мне исполнилось 15 лет, я поступил в алматинское художественное училище, носившее в то время имя Н.В. Гоголя. Это было достаточно сильное училище, входившее в первую пятерку подобных учебных заведений в стране. А после окончания училища меня сразу оставили преподавать, хотя по закону это было не положено, потому что человек со средним образованием не мог быть педагогом. Но для меня сделали исключение, и я там проработал 12 лет, а затем ушел, чтобы полностью отдаться живописи. И вот с 80-го года я, можно сказать, вновь вернулся к кочевому образу жизни, только путешествия мои происходили в области художественного творчества.
Корни и краски
В жизни каждого бывают не только судьбоносные события, но и судьбоносные люди. Я близко знал замечательного художника Евгения Матвеевича Сидоркина, мы даже дружили с ним, вместе бывали в домах творчества, он был моим руководителем. Я обожал итальянских мастеров эпохи возрождения. Но он первым мне сказал: «Что ты все время смотришь на запад, на Италию, когда у тебя дома такое замечательное сакско-скифское искусство». У него самого многие произведения берут начало от предметов, найденных в знаменитых курганах урочища Пазырык. Он объяснял мне: многие находки Пазырыкского кургана не только предвосхищают, но и превосходят Пикассо.
И Сидоркин посеял во мне сомнения, я задумался о направлении своего творчества.
Я обратился к истории, к корням своего народа – древнему тюркскому искусству и еще дальше – к культуре сакских народов. Я, можно сказать, огляделся вокруг и обнаружил, что у меня под ногами лежат Стоунхенджи в несметном количестве, чего я раньше и не замечал. А это не могло не повлиять на характер творчества.
Я начал делать рельеф, писал на твердых материалах. Да, работы становились тяжелее, но картину же не носишь, как сотовый телефон. Вначале это все не воспринималось официозом, меня критиковали, говорили, что это не соответствует национальным традициям, но я уже видел новые возможности.
Во времена перестройки большой интерес к моей рельефной живописи появился у иностранцев. Мои работы начали активно покупать. У меня более 300 картин только в США, много работ в Швейцарии и Англии, есть картины в Германии, Италии, Франции, Дании, Швеции, Норвегии, Польше, Китае, Египте, Израиле, ЮАР. В общем, везде, кроме Арктики и Антарктиды. В Казахстане же в то время это никого не интересовало, богатым были нужны машины, яхты, недвижимость.
Встреча
В советское время я не мог открыто говорить о своей родословной. Мои предки были крупными феодалами в Семиречье, жившими, если верить китайской хронике, 3-5 тысяч лет назад. Это потомки сакских народов, они обитали у подножия Тянь-Шаня, Алатау, реки Чу. А на территории нынешнего Талгара находилось древнее городище, я там часто бываю.
До революции мой дед – Аканай – был бием на территории нынешней алматинской области. У него было два брата: Канай и Данай. Во время коллективизации их, что называется, распотрошили. В 1927-м году у моего деда было 14 детей, из них выжило только четверо, остальных расстреляли, отправили на север, и все связи были утеряны. Мой отец спасся тем, что они с младшим братом просто бежали на коне в Бухару, родину моей бабушки. Так они спаслись, исчезнув на восемь лет – до 1935 года. Подобная же история происходила с родственниками по Канаевской линии, то есть по линии Даурена Муса (его отец – Дуйсен Ахметович Канаев – рассказал, что у Каная был сын Бекдайыр, у которого в 1907 году родился Ахмет – отец Дуйсена. Он закончил в Алматы строительный техникум, затем учился в Москве. Принимал участие в строительстве Турксиба вместе с великим казахским инженером-железнодорожником Мухамеджаном Тынышпаевым. Начало 30-х – страшные годы голодомора в Казахстане. Вся степь была усеяна людскими трупами. Отбирали скот, имущество, в итоге погибла почти половина казахского народа. В те годы Ахмет Канаев, принимая людей на работу, даже чернорабочими, тем самым спасал им жизнь. Ведь участники строительства обеспечивались государственным питанием. Среди тех, кого он спас, был и будущий дважды герой социалистического труда Нурмолда Алдабергенов. В 1937 году Ахмет Канаев был избран депутатом Талгарского райсовета народных депутатов и назначен заместителем председателя Талгарского райисполкома. На войну ушел добровольцем, храбро сражался, был награжден орденами и медалями. Вот такая судьба. – Ред.).
И вот спустя 80 лет разлученные братья встретились в своих потомках. Это произошло несколько лет назад. Нас познакомили, не предполагая, что мы окажемся родственниками. Я беседовал с родителями Даурена, и вот тут-то все выяснилось. Его отец даже показал, где были наши родовые поместья в Талгарском районе – там недавно проходили зимние Азиатские игры.
Таким образом я познакомился с Дауреном Муса. Мне понравился его живой интерес к искусству, кино, спорту. Обычно в наше время у бизнесменов чаще всего другие пристрастия. Мы начали общаться. Он съездил к моей дочери – его сестре – посмотреть, как она работает, к моему внуку.
К тому, что у меня многие картины разошлись по миру, он отнесся так же, как в свое время министр культуры Рахмадиев. Была у меня с ним в начале 90-х встреча. Министр вызвал меня и объявил, что мои и еще трех-четырех художников работы пачками уходят на запад, а это недопустимо. А я в ответ: а на что же нам жить, одни только краски стоят невероятно дорого.
И вот Даурен, чтобы я не продавал больше свои картины, решил все их выкупить. Он хочет создать галерею, где бы картины экспонировались.
Даурен Муса также предложил проект по созданию портретов самых выдающихся людей планеты, вошедших в историю и которые сами эту историю создают. Мы начали работу, но тут случилась беда. Сначала я сам попал на операцию, а затем произошел несчастный случай с моей женой Лаурой Cайкеновной, и вот уже два года она находится в коме. Я обращался за помощью в ряд министерств, правительство – там проявили черствость.
В этот тяжелый период плечо мне подставил Даурен Муса. Он сказал: «300 спартанцев остановили армию Персидской империи, уповая на Бога и надеясь на свои силы. Также и мы – два талгарца. Помните, дело не в количестве, а в качестве. В наших жилах – не вода, а кровь! Поэтому – только вперед!» И я понял: если предамся страху, отчаянию, то и сам погибну. Я начал работать, появились новые картины. Сам Господь протянул нам руку.
Творчество
Изобразительное искусство – это безбрежный океан со множеством течений, островов, архипелагов. Творчество дает человеку необычайное счастье. Но оно и многое требует.
Живопись может вселять надежду, пробуждать сострадание, воскрешать в человеке застывшие энергетические потоки. О своем пути я говорю: пошел на Запад, а вернулся на Восток. Виной тому – гены. Вначале – общепризнанное и «раскрученное» современной цивилизацией искусство Запада, но в итоге лабиринты памяти все-таки вывели к культуре предков.
Я – художник, и в отличие от археологов меня интересует, прежде всего, точный отбор форм, новации, пластические ходы. Все это, в самом превосходном решении, я обнаружил в скульптуре тюрков, создателей древних рун. Рельеф в моих картинах был предопределен. Живопись на холсте имеет свои технические пределы. Она рассчитана на иллюзорные возможности тонкого красочного слоя. Мне не хватало средств для полновесного выражения объемов тех же каменных тюркских изваяний, глубины резных контуров, силы цвета металла…
Когда-то я писал колючку, добиваясь упругости ее стеблей и листьев при помощи всего спектра красок. Но иллюзии всех ракурсов и объемов мне показалось мало, я стал лепить ее красками, начал конструировать каркас. Мне хотелось показать ее жизненную силу, как она, превращаясь осенью в бронзовое изваяние, полна намерения противостоять всем лютым ветрам зимы. А однажды сухой закрученный лист, весь изъеденный до замечательного ажура, вдруг сверкнул золотом и зазвенел… Тогда я понял – вот что нужно! Мне необходим металл, ажур знаков времени.
Создание картины с использованием техники, в которой я работаю, – процесс очень трудоемкий. Вначале я готовил пасту вручную, используя масляные краски, добавки, много экспериментировал. Мне приходилось действовать на ощупь. В советское время информацию о творчестве западных художников-авангардистов получить было очень трудно. Материала было мало, тот, кто привозил что-то из-за границы, не особенно делился, ведь многие вещи были под запретом. Был короткий период хрущевской оттепели, а потом вновь все прикрыли.
Но я чувствовал вибрации каких-то новых идей, они все равно доходили и до нас. Мы уже были знакомы с графикой Пикассо, знали Клее, наши художники пробовали себя в разных ипостасях. Я шел своим путем.
В конце концов, технике рельефной живописи я начал учить всех желающих. У меня много учеников, обучаю их, как чеканить, как полировать металл, который я активно использую в связи с моим обращением к истории, к бронзовому веку. Археологи находят бронзовые зеркала, из бронзы делали оружие, доспехи.
Я понял, что у такой живописи есть будущее. Меня спрашивали: как это можно использовать в жизни. Пожалуйста – мои ученики дают ответ: «Рельефной живописи подвластно все, вплоть до изменения внутреннего восприятия мира».
Путешествия
Я уже рассказывал, что с младенческих лет во мне обитает дух кочевника. Меня захватывает сам процесс открытия чего-то нового.
Путешествовать я предпочел бы на коне. Я вообще очень люблю лошадей, их всегда держал отец, до самого конца своей жизни. Поэтому я с удовольствием, несмотря на свой возраст, осуществил бы конный переход. Года три назад мы с братом ездили на родину – в Бельбулак, там чабаны за 500 тенге на целый день дают коня. И мы по горам, по долам проезжали по 30-35 километров. Спокойно, не вскачь. И большего удовольствия я не испытывал.
А еще я очень люблю поезда. Когда я еду из Алматы в Астану, то все время фотографирую виды из окна вагона, запоминаю названия. И бывало – сожалеешь, что уже ночь, ничего не видно, хотя как раз проезжаешь Сарыарку.
Ну а из тех стран, где я побывал, мне понравились Греция и Израиль. Я был в Иерусалиме, на Мертвом море. В Тель-Авиве, конечно, с архитектурой, как у нас в микрорайонах, и даже хуже, потому что они очень торопились, создавая государство (Голда Меир всех богатеев трясла, чтобы каждый построил по 30 домов). Зато Иерусалим – удивительный город. Там архитекторы работают так, чтобы новые постройки напоминали древнюю архитектуру. Они стараются, чтобы здания не выпирали, как у нас сейчас в Алматы, а уходили под землю ради сохранения рельефа окружающей местности. Там ведь все выстроено на холмах.
А Греция изумительна своим мрамором, бронзой. Я как-то увидел часть женской стопы с пальчиками в мраморе – больше ничего не сохранилось – уму непостижимо, какие были мастера! Великолепные музеи, многие находятся под землей. Там прекрасная скульптура, мрамор у них имеет цвет человеческого тела. Не холодный белый цвет, а какой-то розовато-охристый.
Очень мне понравилось на Украине. В советское время существовала такая форма плэнера на приспособленном для художников небольшом автобусе, и мы объездили на нем почти всю Украину. Хутора, хаты – как на картинах Куинджи. Многое дали и поездки по древним русским городам.
Но есть места, где особенно легко дышится, места, располагающие к творчеству – это Семиречье, где я родился и вырос, юг Казахстана с огромным количеством памятников культуры (мне очень нравятся Тараз, Шымкент). Это также Кокшетау, древние города Узбекистана, Алтай.
А еще меня притягивают дожди, туманы, сырая изморозь. Я люблю наш мокрый снег с хлюпаньем. Мы с товарищем часто выезжаем в сторону Талгара, в горные ущелья. У меня есть куртки, которые вообще не промокают и не пропускают холодный воздух, а ботинки, которые я ношу, можно использовать где угодно. Там я брожу среди кустарников, деревьев, наблюдаю за птицами, животными. И чувствую себя счастливым.
Курганы
Последние десять лет я занимаюсь проблемой сакско-скифских курганов. Скифы, саксы – это древнейшие народы, от которых мы и произошли. И все, что с ними связано, необходимо бережно сохранять. Это также и богатый материал для моих работ.
Я исследовал весь Енбекшиказахский район – там огромное количество курганых массивов. В поселке Жандосов – 22 кургана, и они находятся в плачевном состоянии. Под Алматы исчезли 1200 курганов. Когда шли застройки, их просто уничтожали, сравнивали с землей. Многие курганы даже не были исследованы. В Жамбылском районе за селом Сураншы батыр нашли городище, караван-сарай VI-VII веков примерно. Там уже ведутся раскопки, и я уверен – будут сенсационные результаты.
Но вся беда в том, что у института археологии нет современного оборудования. Поэтому зарубежные специалисты постоянно критикуют наших археологов, объясняя, что сегодня они не имеют права производить раскопки. Пока все законсервировано грунтом, есть возможность для сохранения захоронений. Но в наших условиях многие извлеченные изделия – например, из кожи – мгновенно разрушаются. Чтобы этого не допустить, необходимы мощные холодильные установки, одну из которых нам подарили французы.
Был случай: в алтайских курганах откопали шаманку. У нее даже цвет глаз сохранился, потому что она лежала во льду (захоронения делались на высоте 2-3 тысяч метров). Была такая техника: после захоронения на кургане оставляли отверстие и заливали его водой. Когда наступали холода, вода замерзала. А в знаменитом кургане, который раскопал Руденко еще до войны, нашли самые древние уцелевшие образцы татуировки в мире. А татуировки несли очень важную информацию о древней языческой культуре, охватывавшей огромные территории.
И здесь Даурен Муса также сразу откликнулся, когда я рассказал о проблемах,
связанных с курганами. Он тут же организовал экспедицию на нескольких джипах, с ним поехала съемочная группа и команда экспертов. Я показал все курганные массивы: от Алматы до реки Чилик (это 126 км), сами чиликские курганы занимают площадь 3450 гектаров. Был собран уникальный материал, зафиксированы разрушения, результаты грабежа «черных» археологов, получены материалы, подтверждающие, что эти курганы бесхозные. По итогам экспедиции был снят документальный фильм.
У многих людей мышление сугубо потребительское. У кого-то зреет внутри более масштабное видение. Но есть люди с государственным уровнем мышления. Даурен Муса – один из них.
Я обращался в ряд ведомств, которые должны заниматься проблемами курганов, разговаривал с местными руководителями. Бесполезно! Глухая стена. А ведь курганы дают нам одну из главных форм идентификации: кто мы, откуда, почему здесь оказались. Ведь в художественных изделиях, которые находятся в этих курганах, есть важное Послание. Нельзя все рассматривать только с точки зрения наличия драгоценностей, золотых людей. На знаменитой сакской серебряной чаше из иссыкского кургана есть надписи. До сих пор ученые пытаются их расшифровать. Получены первые результаты. Уже видно, что это тенгрианская культура. Шли споры, не является ли это иранским письмом. Последние работы показали, что Иран здесь ни причем, это – прототюркская культура. Разве это не важно?!
Тревоги и надежды
Искусство – это одна из тех сторон человеческой жизни, без которой невозможно само развитие человечества. А человечество, как мне кажется, сейчас стремительно движется к какой-то катастрофе. Я за 50 лет творческой жизни написал тысячи картин, и многие были посвящены природе, животным. Это были барсы, тигры, павлины. Я часто изображал их в клетках. Причина простая: человек должен обратить внимание, что многие эти животные стремительно исчезают, также как и растения. Загрязнены реки, мне это часто приходится наблюдать, изучая курганы, которые ставят так, чтобы прийти к истоку реки. То есть отсюда жизнь началась, а здесь ее завершение. Художник остро чувствует такие вещи. Мне 66-й год, я вижу, как изменяется окружающий мир, ландшафт, земля. От нашей планеты – а мы являемся маленькой пульсацией огромной космической мастерской – завтра может ничего не остаться. Поэтому мои картины фактически на эту тему.
Сегодня в стране выросло несколько поколений, которые вообще не соприкоснулись с искусством, а воспитаны исключительно эрзац-культурой. Это, пользуясь термином Гертруды Стайн, потерянное поколение. Встречаешься с ровесниками – кто по возрасту вроде бы должен был что-то осознать, а видишь людей, которые не только не реализовали себя, с ними вообще не произошло никакой трансформации, никакой переоценки ценностей, есть только упертость носом в потребительские вещи.
Поэтому, когда я встречаю таких людей, как Даурен Муса, особенно людей молодых, которые живо интересуются важнейшими вопросами нашей жизни, обладают знаниями в области культуры, для которых существуют, помимо материальных, и иные ценности, это все-таки дает какую-то надежду, что не все так скверно.
У нас с Дауреном очень много общего в характере, хотя разница в возрасте – почти 25 лет. Мы выросли в одном районе – Семиречье. У меня есть с чем сравнивать: я был во многих странах, и Семиречье – это замечательное место, особенно Талгарский район. Он необычайно красив. С одной стороны – одна из высо чайших вершин, Талгарский пик, с другой – река, форелевое хозяйство, яблони, знаменитый талгарский апорт. Я сам родился и вырос в Бельбулаке, в советское время он назывался колхоз имени Мичурина. Там произрастало все: крыжовник, смородина орех, тутовник, не говоря уже об урюке, винограде, боярке. Когда я ездил на курганы в Каракемер, мой друг рассказывал, что в 88-м году сюда прилетала группа американских ученых. И они рассказали, что здесь есть 7-километровая зона, где растут все реликтовые травы, кустарники, деревья (они это снимали со спутника). Отсюда пошло дальнейшее их распространение.
А ведь природа, климатические условия формируют характер человека. На мой взгляд, Жетысу (Семиречье) делает человека более созерцательным. Здесь нет перепадов температуры, мягкий климат, прекрасная осень, теплая зима. Многое дает импульс к творчеству. Не случайно, здесь родились замечательные писатели, художники, музыканты: Туманбай Молдагалиев, Абильхан Кастеев, Нургиса Тлендиев, Аронулы Суюнбай (в 2015 году, кстати, будет отмечаться его 200-летие). Из далекой древности пришло выражение «Жер жаннаты – Жетісу» («Если есть на земле рай – то это Жетысу»). Поэт-философ Асан Кайгы, объехавший на верблюдице Желмая («несущейся, как ветер») весь земной шар в поисках земли обетованной, в итоге сказал, что именно здесь – одно из самых замечательных мест на свете.
У меня много родственников, знакомых. Но со многими просто не о чем говорить. Мне приходится с ними встречаться – они покупают у меня картины. Приходят, говорят: вот, мол, у меня такие обои, мне под эти обои надо картину.
А вот серьезный подход Даурена Муса, который на все смотрит как личность, вызывает у меня большие симпатии. Он – творческий человек. И когда я об этом говорю, я всегда привожу в качестве примера таких людей, какими были во Франции Волар и папаша Танги, помогавшие художникам и покупавшие их работы, в России – Третьяков, Щукин, Морозов. А ведь Третьяков был купцом, промышленником, но он выкупил все лучшие работы русских художников, а перед своей смертью подарил все родному городу. А Щукин и Морозов привезли в Россию импрессионистов и постимпрессионистов.
И сейчас я ожидаю, что Даурен Муса, который хочет сохранить работы наших крупных отечественных мастеров на родине, возьмет вот этот уровень, эту высоту. И если его пример окажется для кого-то заразительным, если мы сможем развернуть человека, общество в сторону искусства, высокой культуры – мы сможем восстановить и духовное здоровье казахстанского народа.
Записал Владимир Какаулин