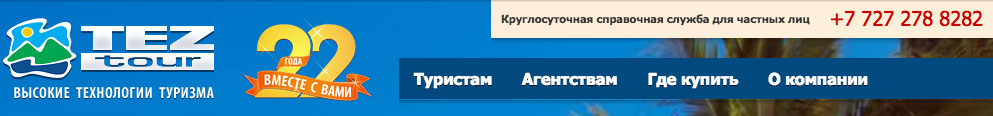«Иосиф Бродский, Сергей Довлатов и … я, Диана Виньковецкая»
В Алматы этим летом побывала Диана Виньковецкая – представительница той волны советских эмигрантов, которые уезжали в эпоху застоя. Она родилась в Кронштадте. Закончила Ленинградский университет. Защитив диссертацию по геоморфологии в 1969 году, работала какое-то время в альма-матер. А в 1975-м вместе с мужем Яковом Виньковецким эмигрировала в Америку. Там она стала писательницей. Этому предшествовало событие, связанное с именем Иосифа Бродского.
Обыск
– Первое пятитомное машинописное собрание сочинений Иосифа Бродского составил наш друг Володя Марамзин, – рассказывает Диана. – Сам поэт об этом не заботился, у него все было раскидано по домам самых разных людей. А Марамзин собрал то, что осталось в Ленинграде и Москве после того, как Иосиф в 1972 году эмигрировал.
В КГБ, узнав об этом, решили арестовать стихи, хотя в них не было ничего антисоветского: Иосиф политикой вообще не занимался, он был выше этого. После обыска у Володи Марамзина прошла сеть обысков по всему Ленинграду. Зная, что мы дружили с Иосифом, у нас он тоже был. В моей книге «Америка, Россия и я» есть глава, где описана почти детективная история: арест Марамзина, судебный процесс, где мой муж Яков выступал свидетелем, мое поведение во время обыска. Вначале было отстранение, холод, а потом, иронизируя над сотрудниками КГБ, я просилась к ним на работу. Они меня не взяли: сказали, что я старовата для них. Я возражаю: «Зато умная». «Вы от скромности не умрете», – отвечают мне. «Конечно! Я умру от хохота». Восемь часов пять человек искали стихи, но у нас все уже было чисто: мы знали, что к нам придут, и, конечно же, спрятали их. Один из комитетчиков спросил: «А где литература?». «Не было литературы, – отвечаю с иронией. – Не было ни Пушкина, ни Достоевского… Ничего не было».
Увидев вызов в Америку, с укоризной сказали: «Вы ведь русская! Что же вы уезжаете?». «Я – русская?! Если кто и есть русский в этой квартире, то это мой муж – Яков Виньковецкий. Он знает то, чего мы с вами не знаем, – русскую литературу, русскую историю, русское искусство. А мне ваш визит поможет окончательно принять решение об отъезде». Я совсем не боялась, потому что мне казалось, что по-человечески нашим «обыскантам» тоже было немножко стыдно. Мы с мужем были действительно двумя успешными учеными, кандидатами наук. У нас были квартира, дети, друзья, и мы не делали никаких политических заявлений. Когда Яша во время обыска книжных полок спросил: «Ну как дела у нас на этом фронте?», капитан КГБ сказал: «Вы молодец! Вы юморист!». «Конечно, молодец! – отвечаю я. – У нас книги, музыка. И все это собрал мой муж». И тогда, обращаясь к девочке-понятой, этот капитан произнес: «Вот так каждая жена должна думать про своего мужа!». А я опять дерзко парирую: «Ваши так не думают!».
Но самое поразительное – людей тогда так запугивали, что наши знакомые (вам это, наверное, даже трудно представить), узнав, что мы уезжаем в Америку, при случайной встрече переходили на другую сторону улицы.
Еще интереснее было, когда переводившая на английский главу «Обыск» американка сказала: «Я так смеялась!». Мне стало так странно: для нас обыск был драматическим событием, спровоцировавшим отъезд из страны, а ей почему-то смешно. Вот такие совершенно противоположные реакции у разных людей.
Казахстанский Агадырь
и Нью-Йорк
– А как вы попали в Казахстан?
– Моего второго мужа, Леонида Перловского – физика, профессора Гарвардского университета – директор Института информатики казахстанской Академии наук после знакомства с ним на конференции в Калифорнии пригласил прочитать в Алматы курс лекций, и я приехала вместе с Леней. До этого я была знакома с казахстанским психологом Анной Кудияровой. Она привозила в Бостон, где у нас дом, своих студентов.
Но первое мое знакомство с Казахстаном состоялось много раньше. Студенткой географического факультета Ленинградского университета я приезжала сюда на практику по геоморфологии. База Ленинградской экспедиции располагалась в Агадыре – это местечко между Карагандой и Балхашом. У меня даже есть рассказ «Агадырь и Нью-Йорк», где я обыгрываю мысль о том, что мир един.
Это было начало 60-х. И как разноязыкие кварталы Нью-Йорка образуют яркие фрагменты на ткани города, так и поселок Агадырь, где было такое же многообразие национальностей, тоже был похож на деревенское цветное одеяло.
Там я встретила свою первую любовь. Геолог Яков Виньковецкий входил в ленинградскую структурную богему как художник-абстракционист. В Агадыре я впервые услышала от него стихи Иосифа Бродского. Яша еще не ухаживал за мной, не было никаких отношений, он просто сказал: я вам почитаю стихи. Потом, уже при встрече, я сказала Иосифу, что его стихи помогли мне влюбиться. Он, помнится, удивился: «Надо же! У меня так не получается». Я ответила: «Не кокетничайте. Вон за вами какой хвост из поклонниц! Одних Марин, наверное, штук десять».
Много позже у меня появилось эссе «Единицы времени» о встречах с Иосифом, с Сережей Довлатовым, обо всем ленинградском андеграунде 60-х. Оно было опубликовано в 2008 году в журнале «Звезда». А с Сережей мы познакомились в Доме писателей на вечере творческой молодежи, организованном сыном Веры Пановой – Борисом Борисовичем Бахтиным, обладавшем невероятным обаянием и, конечно же, связями. В одном из нижних залов проходила выставка Яшиных картин, а наверху авторы читали свои произведения. Среди выступавших были Сережа Довлатов, Иосиф Бродский, Александр Городницкий, Валера Попов, Яша Гордин… – вся ленинградская литературная элита. После того вечера Сережа Довлатов прислал нам «Тлю», знаменитый роман Ивана Шевцова, с подписью: «Абстрактной художественной тле от тли литературной». И с этого времени мы стали дружить домами.
Когда мы познакомились с Сергеем Довлатовым ближе, то выяснилось, что наши дети почти ровесники. И Сережа говорил: надо интеллект соединить с красотой. У него дочка Катя – красавица, а у нас рос интеллектуальный сын Илюша. Моя первая книжечка, кстати, называется «Илюшины разговоры». О ней Довлатов (он тогда работал в Нью-Йорке на радио) подготовил передачу. Когда я издавала книжку второй раз, то сделала Сережины слова вступлением к ней под названием «Устами младенца».
Довлатов и «Новый американец»
– Вы ведь в курсе, что Довлатов с друзьями выпускал в Нью-Йорке еженедельную газету «Новый американец», – продолжает Дина свой рассказ. – Когда мой однокурсник, с которым он работал, позвонил и сообщил, что они затевают газету и в ней будут работать те-то и те-то, я сразу ему сказала, что у них вряд ли что-нибудь получится. Довлатов не мог быть лидером. Для этого надо уметь идти на компромиссы, прощать некоторые слабости, а Сергей был едким и язвительным. Если же видишь только плохое, то и люди, окружающие тебя, тоже начинают замечать твои недостатки, поэтому возникают конфликты, и всё рассыпается.
После смерти моего мужа Яши мы с Сережей встретились уже в Нью-Йорке у моих друзей – поэтессы Марины Тёмкиной и ее мужа, художника Сергея Блюмина. В то время мы с Леней, моим вторым мужем, одни из первых в русской эмигрантской среде купили в Бостоне большой, довольно красивый дом, где я часто устраивала литературные встречи. И вот Марина меня попросила: можно ли ей вместе Сережей Довлатовым почитать у нас для бостонской публики свои произведения? Но мои друзья (те самые, кто позже, когда Довлатов стал знаменитым, писали про него книжки) сказали: если ты это сделаешь, мы перестанем с тобой разговаривать. Непростые творческие взаимоотношения переплетались еще с любовными, омрачаясь одновременно и завистью, и ревностью. Ни для кого не было секретом – Сережа любил женщин. Среди них были и подруги его коллег по газете. Когда его хоронили, я увидела пятерых близких ему женщин: двух жен и трех возлюбленных. Возможно, что их было больше, но я знала только этих.
Лена Довлатова возражала, когда писатель Игорь Ефимов решил опубликовать их переписку с Сережей. Из нее можно было многое понять и узнать о Довлатове, в том числе и весьма нелестного (сборник «Сергей Довлатов. Эпистолярный роман с Игорем Ефимовым» выпущена в 2001 году. – Г.Ш.).
…Почему книги Довлатова всем так нравятся? В том, что Сережа умел злословить, он, предположим, не был одинок, но он не ставил себя выше читателя, как бы делился с ним, считал равным себе, тогда как многие писатели любят поучать утомляющим назидательным тоном. А Сережа всегда сомневался, в нем никогда не было самонадеянной уверенности в себе. Последнее письмо Довлатова к Ефимову такое трагическое. Игорь пишет ему: «Ты видишь в людях много плохого, много зла, а теперь напиши о себе». И Сережа ему отвечает: «Я пытался, но у меня не получается. Про других могу говорить и злословить, а когда про меня говорят что-то, мне очень больно». Мое эссе о нем даже заканчивается стихами английского поэта Одена: «Каждый хочет, чтобы его любили, но не считает обязательным любить самому».
– Каким же все-таки был Довлатов?
– Сережа был красивым человеком, замечательным рассказчиком и обаятельным мужчиной, он царил на всех застольях. Женщины его обожали. Иногда он шутил про свою жену Лену: «Я выращиваю Ленины романы. Я так перед ней виноват, что если вижу ее идущей с кем-то по Невскому проспекту, то прячусь, чтобы сохранить Ленин роман».
Когда Сергей стал совсем много пить, он быстро постарел, и это уже был совершенно не тот красавец, каким я увидела его впервые в Ленинграде. Я заметила, что чем обаятельнее человек в молодости, тем труднее его встретить в старости. А Сергей в молодые годы – что вы! Римский гладиатор под два метра ростом! Шармер! И жены под стать ему. Лена обворожительная, и Ася Пекуровская, первая жена, – потрясающая красавица.
Сергей много улыбался, из него постоянно сыпались афоризмы, истории, байки, но в написанном им на восьми страницах последнем письме к Ефимову проглядывает жившая внутри него острая боль. Поэтому он и уходил в запои. Не было у Сережи мира с самим собой, его талант конфликтовал с грехом, который он за собой чувствовал.
…Моя первая книга «Илюшины разговоры» (мы с мужем записывали за нашим маленьким сыном, как у него идет процесс познания мира) вышла во втором издании, как я уже говорила, с Сережиным отзывом. Вторая книга – «Америка, Россия и я» – увидела свет со словами Иосифа Бродского на обложке. Написанные красивым почерком строчки «Такая, как ты, Дина, на свете одна-едина» он прислал мне на день рождения. Я часто шучу, что он получил за них нобелевскую премию – они ведь написаны за два дня до этого события. Когда я послала Бродскому свою книгу с вопросом: «Иосиф, не очень ли я опозорила нашу литературу?», то получила от него такой отзыв: «Ай да Дина! Ваша хевра удостоилась шедевра». Это было так приятно! Я позвонила ему где-то за неделю до его смерти, чтобы сказать «спасибо». «Валяйте! У вас получается», – услышала я в ответ.
Самому Бродскому ничьи отзывы типа «вы такой замечательный!» были не нужны – у него была внутренняя поэтическая сила. А вот мне поддержка, особенно в начале литературного пути, была необходима. Первым мне ее оказал Костя Кузьминский, известный в ленинградском андеграунде человек, собравший об этом движении несколько томов под названием «Голубая лагуна».
А вообще мое писательство берет свое начало с того момента, когда мы с Яковом и нашими детьми оказались в маленьком университетском городке Блаксбург. Мне там так не хватало общения, что я стала писать своим знакомым в Союз о том, что здесь вижу и как воспринимаю Америку. А оттуда мне в том далеком 1975 году отвечал лишь один человек – отец Александр Мень, московский священник, хороший знакомый Яши. Вот отсюда, из этих писем, родилась книга «Америка, Россия и я», а потом уже и другие. Отец Александр, как бы благословляя меня, сказал: «Дина, вы – писатель, вы должны писать».
«Дина, учи инглиш!»
Когда мы приехали в Америку, нас поддерживал Толстовский фонд. А потом я, неправильно поняв английский текст, сказала там, что мужа приняли в Принстонский университет. Услышав это, сотрудница фонда тут же сняла нас с довольствия. Когда я вернулась домой, Яша сообщил, что приняли пока только документы. Иосиф, узнавший, что мой английский оставил нашу семью без денег, позвонил князю Голицыну, руководителю фонда, и нас восстановили. Мне же посоветовал: «Дина, учи инглиш».
А еще нам помог Миша Шемякин, который в те дни как раз позвонил Яше из Франции с просьбой написать для его журнала «Аполлон-77» статью. «Да не до статьи мне! – занервничал муж. – Тут моя жена наболтала глупостей, теперь сидим на мели». «Сколько надо? – спросил Миша. – Я пришлю». И прислал.
– Так чем же все-таки был спровоцирован ваш отъезд? Только обыском?
– Нет, конечно. Вызов пришел еще до обыска. Мы уехали за свободой.
– И вы ее получили?
– Получили, но у нее оказалась высокая цена. Вы сейчас и сами видите, как с ней тяжело справиться, когда не готов к ней. Но я уже не могла жить в Союзе. Хотя я работала в Ленинградском университете и мне всюду была зеленая улица, меня здесь все раздражало. Я готова была хоть окна мыть в Америке, только бы вывезти детей отсюда. Когда мы пришли в ОВИР за готовыми визами, генерал КГБ нас опять спросил: «Почему вы уезжаете? Вы, два ученых…». Я ответила ему: «Ваша дочка тоже уедет». Он посмотрел на меня удивленно: «Да?!». «Конечно!».
Но в целом мы в Америке устроились хорошо. Вы знаете, что сказал Иосиф на церемонии вручения Нобелевской речи? «Мы (он имел в виду и себя, и Яшу – они оба знали английский еще до приезда) были американцами еще до того, как вступили на эту землю». То есть были свободными. Яша довольно быстро нашел работу в Вирджинском университете, меня тоже туда вскоре приняли. По окончании договора Яша повсюду разослал свое резюме, и его пригласили в фирму «Эксон», где работали пять русскоговорящих ученых, и среди них – Леня Перловский. Меня также туда взяли, но не потому, что я такая умная – они очень хотели удержать Яшу.
– Неужели не было ностальгии по покинутой родине?
– Вначале я готова была вернуться домой хоть по дну Атлантического океана. Но потом образовался психологический барьер. Поэтому, когда меня спрашивают – почему Бродский не вернулся, его ведь так ждали на родине? – отвечаю, что очень трудно вернуться в свою прежнюю жизнь. Хотя, конечно, многим людям не надо было уезжать. Тому же Сереже Довлатову, например. И вообще всем, кто занимается литературой. Например, моему другу Игорю Дименту. В Союзе он работал вместе с Петром Фоменко. Последний стал знаменитым режиссером, а Димент… Когда есть завышенные ожидания, что в чужой стране станешь гением, – за них приходится платить слишком высокую цену. Нужно уметь правильно оценить свои возможности, понять, что ты можешь принять, а что – нет. Поэтому любой художник должен хорошо подумать, прежде чем уезжать куда-то навсегда. А если и ехать, то в аспирантуру, чтобы получить хорошее образование.
В Америке нет такой атмосферы душевности, какая есть здесь. Поэтому была и есть некоторая тоска по общению. У нас с Яковом в Союзе был такой круг замечательных людей – и вдруг он рассыпался! Кто в Париж уехал, кто – в Австралию, кто – в США. И всё – Яшина философская мысль стала работать вхолостую. Да, в Америке замечательная комфортная жизнь, но ему нужны были собеседники, единомышленники, друзья.
– Про Довлатова пишут, что он умер от сердечной недостаточности…
– А я думаю – от тоски. Знаете, у всего есть предел. В том числе и у печали. Даже я, его друг, боясь испортить с кем-то отношения, струсила и не пригласила Сережу в свой бостонский дом. Ему, конечно же, не доставало аудитории. Да, он печатался в американских журналах, но очень хотел быть услышанным в России.
– А что вам лично помогло сохранить в такой чистоте русский язык?
– Ну что вы! Я даже не могу представить, что язык можно потерять. Мы общаемся в русскоязычной среде. Когда переехали в Бостон, я преподавала русский язык американцам. Тогда, в середине 70-х, продолжалась «холодная война», СССР был сильным врагом, которого нужно было изучать, и американцы выделяли на это деньги. Сейчас же кафедры русского языка везде закрываются.
– Каким сегодня с точки зрения человека со стороны стало постсоветское пространство?
– Мы уезжали от безмерной жесткости со стороны государства и закрытости страны. Сейчас люди стали жить лучше, можно свободно выезжать за границу, есть интернет. А раньше все делалось тайно. И все же мне показалось, что в Ленинграде (Диана по-прежнему называет Санкт-Петербург именно так) многие недовольны.
Конечно, я и сегодня скучаю по общению, по единению, по любви друг к другу, что были у нас в Союзе. В России это, к сожалению, тоже сейчас утрачивается, но в Америке очень сильно отчуждение живых существ друг от друга. У нашего кота, например, есть свое место на кухне. Когда наш маленький внук однажды направился туда, моя американская невестка сказала: «Сашенька, это – правайси (личное пространство) кота, и ты не должен туда ходить». Это прайваси настолько внедрилось в сознание американцев, что уже нет никакого контакта между людьми. Такая вот палка о двух концах.
– Прожив столько лет в Америке, вырастив там детей, вы могли бы ответить на вопрос: в чем же заключается успешность американцев?
– В прагматичности. Как смешно выражается Наум Коржавин (не любящий Америку) – в том, что «ихние первые люди всё и основали: конституцию и декларацию прав человека». А мой сын Илюша считает, что большое значение в обустройстве страны имела религия. В Южной Америке преобладает католицизм, а в Северную приехали протестанты. Их кредо – работать, работать и работать. Вот так и были созданы США – по принципу неустанной работы и соблюдения пунктов конституции. В Америке всё зависит не столько от личности президента (его влияние относительное), сколько от соблюдения принципов законности.